
Университет • люди • события
Как факультет гуманитарного образования сохраняет традиции и создает будущее
 От истоков к современности
От истоков к современности
Николай Семенович Белый
доцент, кандидат исторических наук
Первый декан факультета гуманитарного образования
(1990—2004)
Важным этапом развития стало открытие в 1997 году направления «Филология» и начало подготовки по специальности «Международные отношения» совместно с Томским государственным университетом. Это решение показало способность факультета не только отвечать на вызовы времени, но и формировать образовательные тренды.
 От образовательного центра к современному хабу
От образовательного центра к современному хабу
Сегодня факультет — это современная образовательная площадка, осуществляющая подготовку по пяти перспективным направлениям: «Зарубежное регионоведение», «Лингвистика», «Психология», «Социология» и «Филология». Основу для современного развития факультета заложил второй декан – Марк Валериевич Ромм, под чьим руководством с 2010 года была создана система непрерывного образования «бакалавриат — магистратура» по всем направлениям подготовки.
Марк Валерьевич Ромм
профессор, доктор философских наук
Декан факультета гуманитарного образования
с 2004 по 2019 год
Истинная сила факультета раскрывается в его способности отвечать на вызовы времени. Под руководством нынешнего декана Елены Анатольевны Мелёхиной факультет не только сохраняет свои традиции, но и активно развивается. Ярким примером этого служит запуск новых магистерских программ: «Обучение иностранным языкам в цифровой среде» (на английском языке) и «Преподаватель высшей школы». Еще одной инновационной инициативой стало открытие на кафедре философии специальности аспирантуры «Когнитивное моделирование». Эти проекты наглядно демонстрируют, как гуманитарные области знания выходят на передний край науки, открывая новые возможности для подготовки востребованных специалистов.
Елена Анатольевна Мелёхина
доцент, кандидат педагогических наук
Декан факультета гуманитарного образования
с 2019 года
Признание на международном уровне проектов профессора Ольги Михайловны Разумниковой и масштабная работа Ирины Владимировны Барабашёвой. Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и педагогики О. М. Разумникова является признанным специалистом в своей области и ведет активную научно-исследовательскую работу. Проекты под ее научным руководством регулярно получают поддержку крупных научных фондов, включая Российский государственный научный фонд (РГНФ) и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков гуманитарного факультета И. В. Барабашёва разработала программы ПК по профилю педагогической деятельности для преподавателей российских вузов. Обучение по ним прошли более 3000 человек.

Ольга Михайловна Разумникова
профессор, доктор биологических наук

Ирина Владимировна Барабашева
доцент, кандидат филологических наук
 Студенты: главный результат и движущая сила
Студенты: главный результат и движущая сила
Успехи студентов – самый объективный показатель качества образования. Победы на международных форумах, публикации в рейтинговых журналах, успешные спортивные и творческие выступления свидетельствуют о созданной на факультете среде, где раскрывается личностный и профессиональный потенциал.
Молодые исследователи развивают актуальные научные направления. Денис Бессолицын, победитель международной интернет-олимпиады по русскому языку, совмещает лингвистику с работой на радио и педагогической деятельностью, а Анастасия Вальтер создает уникальный словарь НГТУ НЭТИ. Магистрант Анастасия Тарабакина за два года подготовила 7 публикаций в журналах РИНЦ и ВАК, а аспирант Анна Исакова преподает русский язык студентам из Буркина-Фасо, Нигера и Китая. ФГО славится своими достижениями не только в науке, но и в спорте. В 2025 году имя Марии Ермаковой, чемпионки России в забеге на 10 000 метров, узнала вся страна.
Выпускники факультета — его особая гордость. Они успешно реализуют себя в самых разных областях: от образования и госслужбы до бизнеса и творческих индустрий. Среди них – Мария Михайловна Ярлыкова, Ксения Александровна Шепелева, Екатерина Валерьевна Гилёва. Многие выпускники, обеспечивая преемственность факультетских традиций, возвращаются в альма-матер в новом качестве – преподавателей и коллег.
 Не итог, а новая точка отсчета
Не итог, а новая точка отсчета
Факультет продолжает динамично развиваться, доказывая, что гуманитарное знание в технологическую эпоху не просто актуально, а необходимо для подготовки специалистов, способных отвечать на вызовы завтрашнего дня. 35 лет – это возраст расцвета, силы и новых амбиций. И с этим мощным багажом наш факультет уверенно смотрит в будущее, потому что оно в надежных руках наших студентов, выпускников и преподавателей!
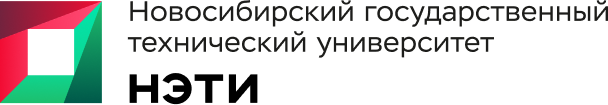




 О факультете
О факультете