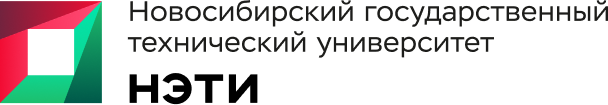Сергей Александрович Харитонов: «У исследователя должен быть элемент авантюризма. У меня он есть»
В 2025 году юбилей отмечает и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ, и человек, во многом определивший его научный облик и статус лидера силовой электроники в России и за рубежом. 2 февраля исполняется 75 лет доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой электроники и электротехники, руководителю Института силовой электроники НГТУ НЭТИ Сергею Александровичу Харитонову.
Юбилей стал поводом для важного разговора — о родном НЭТИ и его людях, о том, как из КБ «ПСИХ» вырос передовой отечественный центр силовой электроники и почему большой науки не бывает без личного интереса и доли авантюризма.

— Сергей Александрович, Ваш путь в науку — это четкий план, судьба, воля случая?
— С одной стороны, на этот вопрос довольно сложно ответить, но с другой — этот путь для меня всегда был очевиден. Мои юность и молодость пришлись на те годы, когда не только страна, но и весь мир бредил физикой. Физика была наукой, в которую стремились, которую активно применяли. Поэтому еще в школьные годы для меня было совершенно очевидно, что я буду заниматься физикой, а точнее — астрофизикой. Поэтому все дальнейшее укладывалось в это выбранное русло. Единственное — астрофизиком я не стал, и на то были причины.

Мой отец — военнослужащий, и нам приходилось довольно часть переезжать из одного города в другой. Это, бесспорно, оставило определенный след на моем общем образовании. К сожалению, ни об одной школе не могу сказать, что она меня воспитала. Считаю, что это плохо. Хотя первого учителя я прекрасно помню и храню ее фотографию. В Новосибирске я учился всего один выпускной год и, желая каким-то образом нагнать свое отставание в среднем образовании, весь этот год ходил на подготовительные курсы в Новосибирский государственный университет. Там была очень серьезная подготовка по математике. Благодарен судьбе, что мне довелось слушать очень интересного человека — академика Сергея Львовича Соболева. Я ходил к нему на занятия и ничего не понимал, но был такой не один. Сергей Львович нас успокоил, сказав, что, когда приходит слушать другого академика, чье математическое направление немного отличается, считает для себя нормальным, если понимает хотя бы 20%. Поэтому я тогда решил, что мои 2—3% понимания тоже можно считать нормой. За этот год я, конечно, подтянул свой уровень образования, но ехать в Ленинград, а астрофизиков готовили именно там, не рискнул: сила с волей не сложились. То, что я попал в НЭТИ, можно считать случайностью: выбор был невелик — НГУ или НГТУ. Но в силу того, что электроника меня привлекала больше, а технические науки были ближе фундаментальных, я оказался в нашем университете, тогда — институте.
Не могу не сказать о том, почему стал заниматься промышленной электроникой. Считаю долгом вспомнить своих учителей. Когда я пришел со своими школьными друзьями в приемную комиссию НЭТИ, встретил удивительного человека — Владислава Николаевича Гаревского, декана факультета электронной техники. Надо сказать, что в те годы в фаворе, с максимально возможными проходными баллами были два факультета — Физтех и ФЭТ. И Владислав Николаевич сказал, что если идти, то только на одну специальность — промышленную электронику. Не очень понимая, что это такое, я сделал выбор, о котором до сих пор не жалею. Сдав все экзамены на отлично, поступил без проблем.
Поскольку сразу для себя решил, что буду заниматься научными исследованиями, с первого курса с двумя моими друзьями-коллегами: Володей Иванцовым и Юрой Семёновым — работали на кафедре физики. После попал к Евгению Александровичу Подъякову, человеку, которого бесконечно уважаю и люблю. На третьем курсе нас вовлекли в работу по созданию довольно секретной по тем временам системы силовой электроники. И тогда я понял, что пути назад нет, я — в научно-технической среде.
У нас был интересный выпуск: семь человек остались на кафедре. Впоследствии мы стали Конструкторским Бюро «ПСИХ». Называлось оно так не шутки ради, а по первым буквам фамилий его участников: Кожухов, Бородин, Подъяков, Семёнов, Иванцов и Харитонов. Выросло оно сначала в отраслевую лабораторию электрооборудования летательных аппаратов, а после — в Институт силовой электроники. Вот такая судьба.

— Судьба, подкрепленная четким планом. Откуда в Вас эта целеустремленность, из семьи?
— Прежде всего, это примета времени, в котором я рос: целеполагание было общепринятым. И, конечно, из семьи. Мы с братом росли в очень и очень счастливой семье. Мы всегда видели, как отец полностью отдавал себя военной службе, и понимали, что должны и хотим быть точно такими же: идти по выбранному пути. Я завел трудовую книжку в университете студентом третьего курса, с тех пор она здесь и остается.

— Сергей Александрович, что вдохновляет Вас в науке и в преподавании?
— Все мы, кто занимается наукой, любим получать нечто новое. То есть любое открытие, даже маленькое. Я вообще восхищаюсь, когда вывожу формулу, которую до меня никто никогда не получал. Достоинство науки заключается как раз в том, что ты имеешь возможность удовлетворять свои потребности в получении чего-то нового, лидировать хотя бы перед самим собой. Это и позволило мне оставаться в науке несмотря ни на что. Не менее важным является понимание: создавая что-то новое, ты делаешь это не только для себя, что это имеет общественное звучание. Работая в прикладной науке, мы создали немало технологий и разработок.
Педагогом быть не рвался. Но после защиты кандидатской диссертации и определенных успехов в наших разработках Георгий Владимирович Грабовецкий с профессором Подъяковым настояли, что нужно делиться знаниями с молодым поколением. По истечении времени понимаю, что это был абсолютно правильный шаг. Подготовка кадров на нашей кафедре всегда опиралась на научный состав самой кафедры и реальные разработки для индустрии.
— Вы — тот самый уникальный пример ученого, который растит научную молодежь, вовлекая в свою деятельность студентов, выступая не просто научным руководителем, а наставником. Как Вам это удается?
— Тут немного пофилософствую. Я для этого почти ничего специально не делаю, поскольку считаю, что человека в науку должен вовлекать интерес. Моя задача — этот интерес вызвать. Всем своим соискателям и аспирантам я рассказываю, как учился в аспирантуре. К профессору Грабовецкому нужно были приходить со своей темой, а не ждать предложения научного руководителя. Естественно, я пришел с темой, получил одобрение «в путь» и подтверждение, что она имеет научное содержание. В следующий раз я пришел к профессору уже с готовой диссертацией.

Когда человек начинает заниматься наукой, его нельзя вести за руку, это уже не студент, а молодой ученый, который под моим руководством окунулся в самостоятельное добывание знаний. Еще одна моя задача как руководителя — обеспечить действительно интересной и реальной работой, заказом от предприятия. Когда на кафедре ведется научно-практическая деятельность, молодежь всегда подтягивается. И ее нужно поддерживать, в том числе финансово.
И сейчас не могу не вспомнить о том, как нам удавалось всегда придерживаться этого пути. В конце 80-х, когда в стране происходили изменения, объем финансирования на нашей кафедре, в составе которой была относительно небольшая лаборатория, составлял миллион долларов. В 90-е нам тоже удалось выжить, во многом благодаря оборонному заделу 80-х: мы довольно быстро диверсифицировались и смогли наши разработки перевести в разряд гражданской промышленности.
В свое время мы ворвались в ветроэнергетику, многое там «натворив» в самом хорошем смысле слова, немало сделано и в автомобильной тематике. Все это позволило нам сохранить костяк коллектива. Ценно и то, что нам удавалось заниматься и теоретической работой: благодаря публикационной активности нас знали и в нашей стране, и за рубежом. Мы не только не потеряли свое лицо — мы стали считаться одной из ведущих школ силовой электроники, к нам пришли предприятия. Так, в 2000-х к нам «вернулась» авиация. Появились внедрения, результаты и финансирование: из лаборатории мы выросли в Институт силовой электроники.
— Какими разработками Вы гордитесь? Что сегодня, условно говоря, плавает, летает, «живет» благодаря Вам и Вашему коллективу?
— Надо сказать, что прикладная, инженерная наука — это всегда коллективная наука. Когда я иду к индустриальному партнеру, я несу знания всего коллектива. И сейчас, перечисляя разработки, которыми мы гордимся, я делаю акцент на нашем коллективе. Самая, пожалуй, могучая разработка — ветроэнергетическая установка (ВЭУ) конца 80-х годов: для нее мы разрабатывали систему генерирования электрической энергии. ВЭУ — это огромное сооружение: башня-гондола высотой почти 40 метров, диаметр ветровой турбины 36 метров. Предполагалось, что таких установок будет более 20 вдоль побережья Северного Ледовитого океана, в том числе на Чукотке. Главным конструктором всего проекта был Игорь Сергеевич Селезнёв — генеральный конструктор МКБ «Радуга». Мы все очень гордимся этим проектом. Мы — это Сергей Алексеевич Иванов, Сергей Викторович Брованов, Дмитрий Владиславович Коробков, Евгений Борисович Преображенский и многие другие коллеги. Созданную в советское время разработку продолжили мои аспиранты, в числе которых Алексей Хлебников, Максим Маслов и другие ребята. Проект не получил своего развития, но судьба складывается так, что все идет по спирали: сейчас вновь заговорили о создании таких установок вдоль Северного Ледовитого океана. Очень хочу, чтобы мы туда вернулись, и надеюсь, что это случится.
2000-е отмечены развитием партнерства с КБ Туполева, совместно с которым мы разрабатывали системы генерирования электрической энергии для Ту-204 и впоследствии Ту-214.
Не могу не сказать еще об одной разработке — электромеханическом безредукторном усилителе рулевого управления, в создание которого были вовлечены сотрудники нескольких кафедр: Борис Михайлович Боченков, Александр Федорович Шевченко, Евгений Борисович Гаврилов. Эта разработка перешла в реализацию на ряде предприятий, в числе которых ПО «Север», Элсиб, БЭМЗ и другие. Из Новосибирска производство ушло в Удмуртию и Калугу, сейчас этот усилитель руля выпускается серийно. Мне же довелось внедрять его в Индии.
Из современных — это, безусловно, накопитель электрической энергии. Эту работу мы поднимали с Сергеем Викторовичем Бровановым. Полагаю, что нам удалось организовать в Новосибирске целую отрасль по производству систем накопления энергии. Мы начинали в 2003 году, когда мало кто об этом задумывался. Однако уже через несколько лет совместно с предприятием «Системы постоянного тока» был создан первый накопитель.

— Способность «организовать» науку, сплотить вокруг себя научное, профессиональное сообщество — это безусловная черта лидера. Зачем Вам эта деятельность?
— Без этого просто невозможно расти. С каждым шагом потребности в достижении результата только увеличиваются. Делая один шаг, я понимаю, что дальше нужно уже два. Чтобы сделать эти два шага, нужны новые знания, которых тоже бывает недостаточно, — нужны плечи, на которые можно опереться.
Сегодняшняя наука, особенно техническая, требует не просто кооперации, а интеграции различного уровня знаний. Этот опыт я начал приобретать, когда занялся авиационными системами. Авиационная электротехника — это интеллектуальная область знаний, которая вбирает в себя и электронику, и механику, и электромеханику. Создавая эти системы, ты приходишь к пониманию, что всегда должен быть тем самым интегратором.
Очень большой опыт в интеграции знаний и умений я получил в результате реализации программы «Силовая электроника Сибири», созданной в 2002 году по предложению СО РАН, областной администрации и ряда предприятий. Я был генеральным директором управляющей компании программы, генератором идеи и творцом интеллектуальной части программы выступил академик Федор Андреевич Кузнецов, директор Института неорганической химии СО РАН. За 12 лет существования программа научила кооперации не только внутри, но и вне университета, более того, не только в Сибирском регионе, но и по стране в целом. Нас, сибиряков, узнали как сильную школу силовой электроники.
— Кем Вы себя считаете: ученым, исследователем, изобретателем?
— Назвать себя только ученым будет неправильно. Считаю, что ученые — это люди, которые занимаются фундаментальной наукой. Им не нужно практически ничего, кроме карандаша, ручки и, может быть, компьютера. Нет, конечно, я прежде всего исследователь. Не исключаю и роль учителя. Это обязательное сочетание для человека, занимающегося научными исследованиями: если ты что-то придумал, должен это знание передавать.

— Сергей Александрович Харитонов в университете и дома — это один и тот же человек или это разные люди?
— К сожалению, один и тот же. Хотя прекрасно понимаю, что дома должен быть другим. Своим ученикам я всегда говорю, что семья — прежде всего, потому что все, что мы делаем, — для семьи.
Мои дети, сын и дочь — это моя опора: прислушиваюсь к ним, их оценка очень важна для меня. У меня шестеро внуков. Не могу сказать, что уделяю им много времени, но всегда мысленно к ним обращаюсь; это то продолжение, ради которого мы и живем. Единственно, ни у одного из шести внуков не вижу на сегодняшний день тяготения к технике. Полагаю, что это веяние времени: 19-й век был веком гуманитариев, 20-й — физиков. Каким будет век 21-й? Веком искусственного интеллекта? Посмотрим, хотелось бы — просто интеллекта.
— Вам необходимо отдыхать от науки? Это осуществимый процесс?
— Сейчас расскажу, как отдыхаю. Беру путевку — больше всего люблю уезжать на Алтай — и там в течение 10—15 дней я успеваю… написать три-четыре статьи.
Всегда тяготел к спорту. До определенных обстоятельств занимался горными лыжами, сейчас катаюсь на обычных: иногда говорю, что часто, но на самом деле надо бы почаще. Стою на коньках. Будучи молодым, всегда занимался каким-то спортом, в том числе баскетболом, волейболом. Думаю, это и сейчас позволяет поддерживать себя в форме.
— НГТУ НЭТИ в этом году тоже отмечает 75-летие. Каково это — быть ровесником любимого вуза?
— Стены, в которых мы сейчас с вами находимся, — это дом родной, в котором я живу с 1967 года, с момента поступления. Я не представляю себя без него. Я даже когда домой прихожу, понимаю, что из дома же и пришел. Очень люблю НГТУ, люблю всех, кто здесь работает, очень уважаю. Работа преподавателя — это сложный труд. Понимаю, как сложна работа и наших руководителей, каждый из них — Атлант, который держит университет на плечах.
И я хотел бы пожелать своему университету, безусловно, процветания. Прежде всего — в научных исследованиях. Потерянное в 90-е годы еще не удалось восстановить: теряется и ломается все очень быстро, восстанавливается — долго. Научные же школы восстанавливаются десятилетиями, некоторые из них мы вовсе потеряли, но процесс восстановления очевиден. «Приоритет 2030» — это сложная для вуза программа, но именно она помогает в этом процессе: вижу, как многие кафедры просто оживают, мы растем. Появляется молодежь с горящими глазами, в нашем коллективе ее много.
НГТУ — крупнейший и лучший университет в нашем городе, да и не только: знаю многие университеты страны, «потягаться» мы можем практически с каждым техническим вузом.
— Сергей Александрович, чтобы создавать новое, нужно иметь смелость и некую долю авантюризма. Вы — авантюрист?
— Абсолютно! Я — авантюрист. Это знают все, кто со мной работает. Потому что я ввязываюсь в те работы, которые изначально кажутся просто невыполнимыми. И полагаю, что именно это чрезвычайно важно для научных исследований. Если делать только то, что знаешь, — это инженерия, не нужно говорить, что ты ученый. Любая работа авантюрного характера — она не про деньги, она про престиж и новые знания. Поэтому все-таки элемент авантюризма у исследователей должен быть. У меня он есть.
— География Вашей жизни невероятно велика: детство в семье военнослужащего, исследовательская деятельность, научное и индустриальное партнерство. Какие места Вы считаете любимыми?
— Я уже назвал одно из любимых мест — это Алтай. Там прошла часть моего детства. Отец служил какое-то время в Венгрии, потом дивизию перевели в Гомель, из Гомеля в Тюмень, а затем в Бийск, где мы и прожили около четырех лет. Зимой военный городок был в городе, а с мая по октябрь воинская часть выезжала в горы. И там я, конечно, влюбился в горный и безумно красивый Алтай. Преданность Алтаю остается у меня и по сей день. Отсюда, кстати, и наша ежегодная конференция EDM, которая проводится неизменно в горах Алтая.

Я человек очень зимний, люблю отдыхать зимой. Были поездки в Альпы — в Австрию и Швейцарию: мне очень нравилось кататься на горных лыжах.
Конечно, я побывал во многих странах, это важно, но лучше России для меня нет. Мне нравится запах полей. Мне нравится запах хвои в наших лесах. Только в наших лесах и полях вы можете почувствовать запах гречихи, клевера. Прозрачность березового леса, темная гуща соснового… Это про то, что в крови, впиталось в кожу, что никогда не предашь и ничем не заменишь. И люди, конечно: человеческие отношения в России — они совершенно другие. Многие говорят, что у нас другая цивилизация. Она действительно другая, между Европой и Азией. Нас, бесспорно, воспитали просторы, российские просторы.
В свое время мы объехали практически все эти российские просторы с родителями и после уже без них. Для меня чрезвычайно важно, что здесь погосты моих близких и родных. Это то, что привязывает. И это не громкие слова, так сложилось. Может, нас так воспитали, может, я такой, не знаю…
— Сергей Александрович, что Вы желаете себе в год 75-летия?
— Знаете, у меня есть одна голубая мечта, которую я еще не проговаривал. Мне нужно долголетие — долгое и творческое. Вот это очень важно. И, конечно, здоровья.

Фото: из личного архива героя и УИП